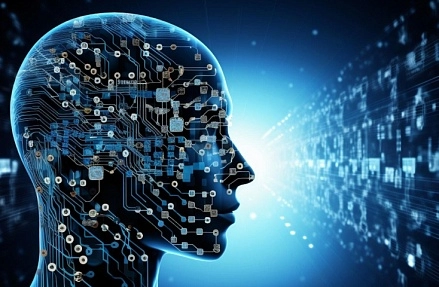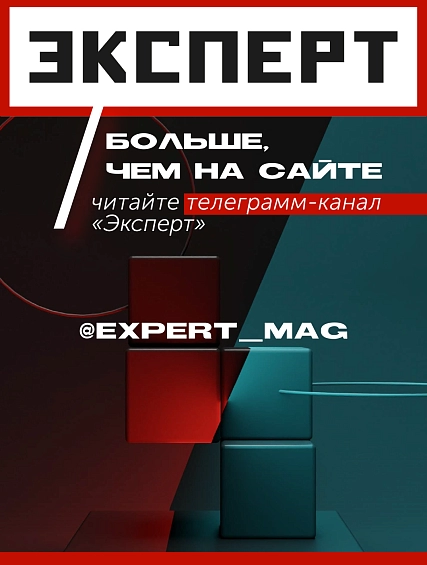- USD Бирж 1.07 -10.47
- EUR Бирж 12.85 -86.51
- CNY Бирж 28.7 --15.85
- АЛРОСА ао 77.04 +-0.17
- СевСт-ао 1872.6 +-2.4
- ГАЗПРОМ ао 166.5 -0.36
- ГМКНорНик 159.48 +-0.58
- ЛУКОЙЛ 7834.5 +-15.5
- НЛМК ао 227.12 +-0.66
- Роснефть 583.75 -2.05
- Сбербанк 311.56 +-1.74
- Сургнфгз 35.09 -0.09
- Татнфт 3ао 712.7 -1.7
- USD ЦБ 93.29 93.25
- EUR ЦБ 99.56 99.36