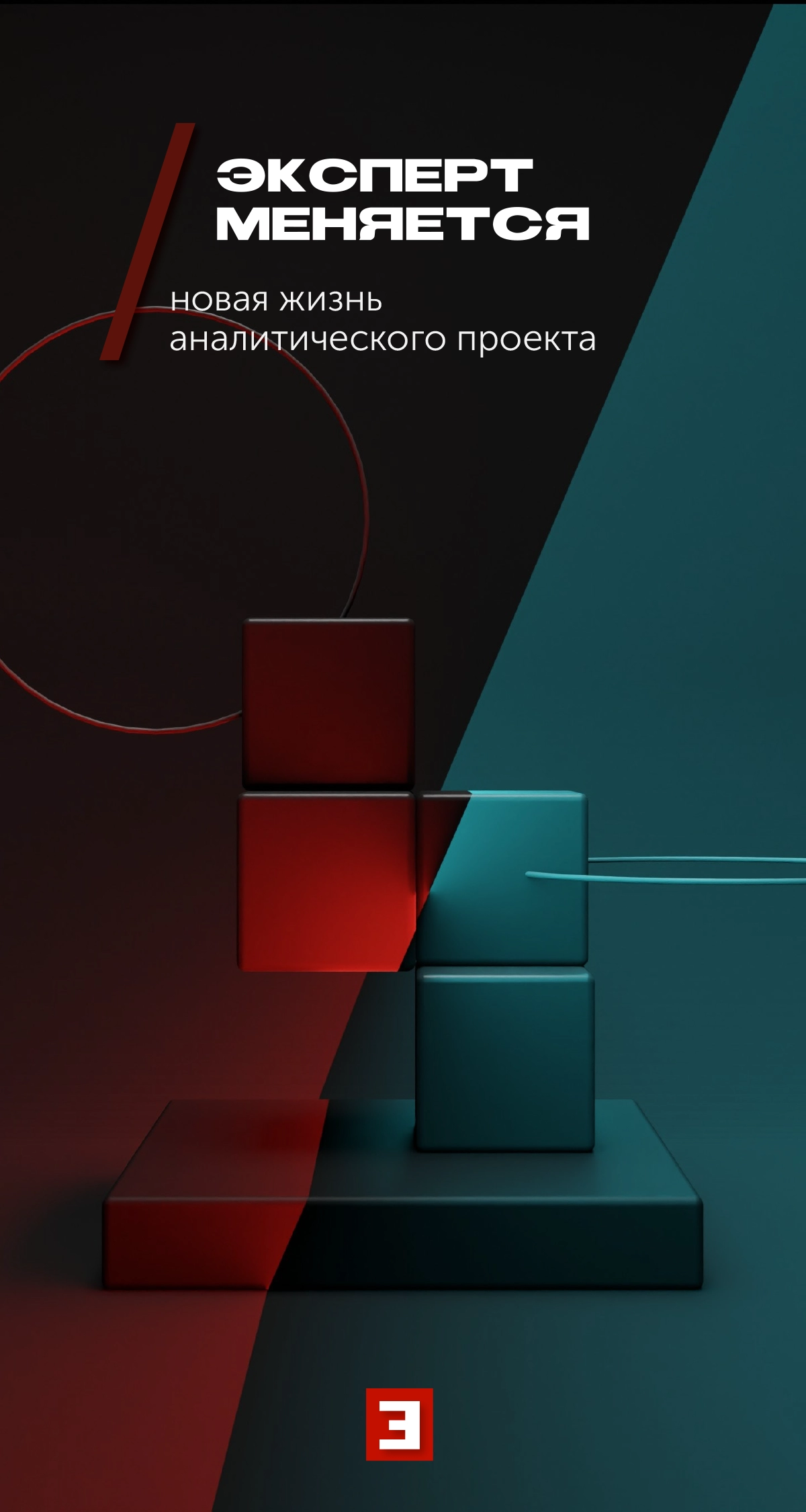- USD Бирж 1.07 -10.72
- EUR Бирж 12.89 -86.74
- CNY Бирж 28.65 +-15.79
- АЛРОСА ао 76.96 -0.12
- СевСт-ао 1835.6 -5.2
- ГАЗПРОМ ао 164.43 -0.08
- ГМКНорНик 162.3 +-0.26
- ЛУКОЙЛ 7894.5 -4.5
- НЛМК ао 229.54 -0.56
- Роснефть 584.9 +-1.1
- Сбербанк 307.56 +-0.44
- Сургнфгз 32.36 -0.01
- Татнфт 3ао 733.7 +-1.3
- USD ЦБ 93.59 93.44
- EUR ЦБ 99.79 99.73