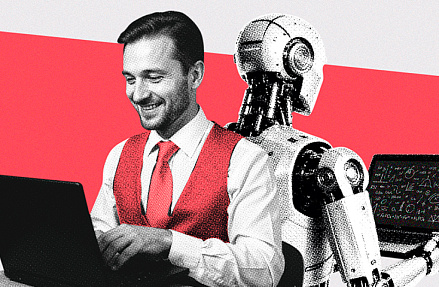— Тема нашей беседы — деглобализация, дезинтеграция мировой экономики. Но хотелось бы начать с вопроса по объединительной тематике. Мы все чаще встречаем термин «мировое большинство». Что под этим понимается и есть ли разница между мировым большинством, Глобальным Югом и БРИКС+?
— «БРИКС+» — это уже почти академический термин, который подразумевает конкретный список стран. А «мировое большинство» — это понятие с идеологическим, символическим подтекстом. Его задача — обозначить тенденцию, которая сложилась в мировой экономике, а не конкретный перечень стран. А тенденция выражена в том, что старые многосторонние экономические институты себя исчерпали и им на замену создаются новые.
Мировое большинство — это группа стран, — не только Юга, но и Севера, Востока и Запада, — между которыми сложился по этому вопросу консенсус. Их объединяет желание сформировать новые механизмы взаимодействия, новые инструменты, платформы и вообще парадигмы работы мировой экономики. Сформировать таким образом, чтобы новая система отражала тот баланс сил, который сейчас фактически сложился.
А страны БРИКС+ — это локомотивы таких изменений. Если посчитать население этих стран, например Китая, Индии, Индонезии, Бразилии, то мы получим подавляющее большинство жителей планеты. И Россия тоже, естественно, относится к числу тех, кто готов менять и формулировать новые правила и принципы международного экономического взаимодействия.
Что такое «Третий Рим»
Центр межотраслевой экспертизы «Третий Рим» создан в 2024 г. по решению президента на базе РАНХиГС для экспертного сопровождения деятельности администрации президента по вопросам социально-экономического развития страны. Ключевые направления экспертизы центра: макроэкономическая политика и финансирование экономического роста, глобальная экономика и международные институты, народосбережение, развитие человеческого потенциала и рынок труда, технологическое развитие и отраслевая экономика, новые формы экономической деятельности и цифровая трансформация, пространственное развитие, среда для жизни, эффективное государство.
— Вы сказали, что действующие многосторонние институты себя исчерпали. То же самое часто говорят о глобализации: что она перестала быть эффективной и экономически целесообразной. Но структура мировой торговли, международных расчетов и даже мировой экономики, несмотря на взлет Китая, почти не меняется. Деглобализация — это экономический факт или, скорее, политический лозунг?
— Я бы не ставила вопрос таким образом. Речь не о том, чтобы осознать, продолжается ли глобализация, или этот процесс завершен и началась деглобализация. Дело, скорее, в том, на каком этапе развития экономической истории мы находимся. Мировая экономика в целом развивается волнами: на смену эгоизму, индивидуализму отдельных стран приходит желание о чем-то договориться и двигаться в общем русле. Такое происходит, когда страны чувствуют, что от этих договоренностей они получают больше, чем от индивидуальных и самостоятельных траекторий развития.
Вслед за такой волной общего консенсуса вновь приходит политика индивидуализма, когда та или иная страна начинает делать всё по-своему, выстраивать отдельные двусторонние механизмы. Сейчас всё несколько сложнее, но в целом мы наблюдаем именно такой процесс разобщения. То есть настал момент, когда страны пришли к выводу, что общие договоренности, правила в данный момент не помогают устойчивому, правильному и эффективному развитию. Сегодня мы называем это деглобализацией.
Удивительна не сама деглобализация, а что ее разгоняет. Ведь именно США — когда-то инициаторы глобализации — сейчас выступают главным драйвером процесса развала договоренностей и фрагментации. Соединенные Штаты вводят точечные тарифы, санкционные и другие ограничения в отношении отдельных стран, что как раз и приводит к тому, что государства замыкаются.
— США намеренно работают на ускорение распада?
— Я думаю, что в целом для них это достаточно конъюнктурная история. Одно правительство выступает за глобализацию, другое, сегодняшнее, работает на фрагментацию. При этом понятно, что страны, которых как бы изолируют или которые получают серьезные удары, начинают искать альтернативные общепринятым возможности для взаимодействия с другими государствами. Например, та же Индия, в общем-то готовая встраиваться в глобальную международную систему страна, получила 50%-ные тарифы на экспорт в США и теперь занимается перестройкой экономической системы.
Именно такой процесс перехода от всеобщих к альтернативным механизмам мы и наблюдаем. Сейчас запускается виток двусторонних, плюральных по отдельным темам соглашений. Региональная интеграция начинает усиливаться. Поэтому нельзя сказать, что деглобализация действительно ломает какие-то истинные процессы экономического взаимодействия. Она просто дает возможность появиться тем форматам, которые не были нужны, когда всё было мирно и согласовано на глобальном уровне.
Сейчас региональные форматы начинают работать и приносить результаты. Страны видят больший эффект именно от таких более локальных и конкретных тематических соглашений.
— Страновые блоки и отдельные страны усиленно работают над обеспечением собственного суверенитета в области технологий, продовольствия и так далее. Насколько они будут готовы взаимодействовать друг с другом?
— Новый цифровой этап развития мировой экономики уже не позволит географически изолироваться. В этом плане, в связке с предыдущим вопросом, деглобализация в полном смысле этого слова невозможна, потому что система финансовых расчетов, система цифровой торговли стерла границы.
И очень часто в нынешних объединениях, особенно тематических, если мы возьмем, например, объединения по цифровой повестке, участвуют страны из разных географических точек. Но они приходят к пониманию необходимости договориться по конкретным правилам игры в той или иной области. Поэтому я считаю, что такое кросс-граничное, кросс-региональное сотрудничество будет сохраняться. Прежде всего в области расчетов, финансов, цифровых финансов, в цифровой и электронной торговле, логистике.
— Требуется ли какой-то всеобщий институт, механизм, который позволит странам или блокам взаимодействовать друг с другом?
— Главная проблема, с которой сталкиваются все страны мирового большинства и которая с каждым днем становится всё очевидные, — это зависимость от одной валюты. Мы понимаем, что в данном случае речь идет о долларе. И пока доверие и удобство использования одной валюты превышало риски и неудобства, никто не задумывался и все спокойно использовали доллар и как резервную валюту, и как валюту для расчетов. Но с каждым днем появляется всё больше примеров, когда вот такое «единовалютие» становится инструментом манипуляции, недобросовестной конкуренции и зачастую политическим рычагом управления странами.
Очевидно, что с такой ситуацией страны мириться не будут и будут искать альтернативы. Отвечая на ваш вопрос, появится ли новый институт: возможно, появится, а возможно, в нем и не будет такой необходимости. Будут ли развиваться расчеты в национальных валютах? Да, скорее всего. Страны контролируют свои расчеты и, опасаясь доллара, конечно, всё больше и больше будут переходить на двусторонние расчеты в национальных валютах. Наше взаимодействие с Китаем — это показательный пример, когда за короткий временной период произошел скачок доли расчетов в нацвалютах. И скачок был совершенно феноменальным.
Конечно, у использования нацвалют в расчетах есть объективные ограничения, связанные, например, с неравномерностью двусторонних торговых потоков. Но сейчас, возможно, вопрос стоит по-другому. Нужно думать не о том, как далеко можно продвинуться в распространении расчетов в национальных валютах, а о том, как использовать возможности цифровых валют.
— Всё же сфера цифровых финансов пока либо дикая, либо не зрелая, а рассчитываться надо уже сегодня. Как быть сейчас?
— Если мы хотим совершать многосторонние расчеты в цифровых валютах, то надо договариваться. И договариваться на какой-то общей многосторонней площадке. И вот тут, я предполагаю, и появится новый институт или как минимум механизм, который будет многосторонним, международным, где страны договорятся об общих правилах и стандартах цифрового финансового взаимодействия. Где этот институт будет сформирован — вопрос открытый, но я предполагаю, что главным драйвером станут всё те же страны мирового большинства.
справка
Наталья Стапран: экспресс-биография
Окончила МГИМО МИД России. Кандидат исторических наук.
2000–2004 гг. — сотрудник посольства России в Токио (Япония).
2005–2016 гг. — доцент кафедры востоковедения МГИМО, преподаватель ВШЭ, РАНХиГС.
2011–2016 гг. — директор Российского центра исследований Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (РЦИ АТЭС) при РАНХиГС.
2016–2023 гг. — директор департамента поддержки проектов в Азиатско-Тихоокеанском регионе и департамента многостороннего сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития.
2023–2024 гг. — торговый представитель Российской Федерации в Японии.
2024 г. по н/в — директор Центра межотраслевой экспертизы «Третий Рим» при Президентской Академии.
— Как переход к цифровым валютам будет менять глобальную финансовую и торговую систему?
— Цифровизация прежде всего призвана упрощать, гармонизировать, ускорять любой процесс торгово-экономического взаимодействия. Это такой этап прогресса человечества, когда сложные материальные, денежные процессы переходят на более высокий, быстрый и эффективный уровень.
Но здесь и есть риски. Пока эта сфера абсолютно не урегулирована. Чем быстрее страны начнут договариваться, тем больше пользы эта цифровизация принесет. Чем дольше будут откладывать процесс общих договоренностей, тем больше будет рисков и нежелательных ситуаций.
Важный нюанс в том, что цифровые финансы не всегда контролируются государством. Здесь тоже есть фрагментация, но не на уровне политики, а на уровне бизнеса.
Правительства стран пока не готовы передать такую автономию отдельным финансовым институтам, нередко частным, не подконтрольным общей системе.
От того, насколько сильным будет желание доминировать, контролировать и объединять, будет зависеть скорость и эффективность процесса расчетов. Сейчас это серая зона, но мы видим, что страны всё с большим и большим желанием в это включаются. В России, например, цифровой рубль уже официально признан как возможный инструмент расчета.
— Видите ли вы какие-то глобальные торговые механизмы, устойчивые к геополитическим рискам?
— Для начала отреагирую именно на термин «глобальные». Мы понимаем, что единственным действенным глобальным многосторонним институтом в области как экономики, так и политики и безопасности всё равно пока остается ООН. Несмотря на все свои сложности и слабости, это единственная площадка, где большинство стран мира представлены с правом собственного голоса, обсуждения и выражения собственной позиции.
Но ООН — это именно мировая площадка, где прикладные локальные вопросы решать не принято. И вот для такой, зачастую двусторонней, проблематики лучше региональные форматы. В Азиатско-Тихоокеанском регионе довольно успешно развивается большое партнерство ВРЭП (Всестороннее региональное экономическое партнерство. — «Эксперт»), куда входят большинство стран АСЕАН, а также Китай, Южная Корея и Япония. Очень серьезная работа ведется в Евразийском экономическом союзе. Это видно и по притоку новых соглашений о создании зон свободной торговли. Последнее соглашение прорабатывается с Индией. Процесс очень долго был заморожен, и сейчас началась работа.
— То, о чем вы сейчас говорите, напоминает хеджирование. Когда удобно пользоваться действующим инструментом, но во избежание рисков готовится некий запасной аэродром. Сейчас, кстати, даже появился такой термин: «хеджированная глобализация». Уместны ли такие аналогии?
— В хеджированную глобализацию попадают еще и точечные соглашения, которые страны начинают заключать, понимая, что что-то идет не так. И здесь, наверное, хорошим примером является Великобритания, которая в последние два года заключала несколько соглашений с Индией. Страны пытаются подстраховаться на случай, если их традиционные форматы сотрудничества и партнерские соглашения, на которые они делали основную ставку, перестают работать.
Хороший пример — это как раз история сотрудничества США и Индии. Индия стремилась в Трансокеанское партнерство, чтобы быть частью экономики, где большинство торговых процессов завязано на США.
Но когда твой ключевой партнер предпринимает непредсказуемые агрессивные действия, страна начинает искать хедж-инструменты в торговле, где постелить себе соломку, чтобы, если вдруг что-то пойдет совсем не так, были альтернативы и возможности. Поэтому, наверное, и появился термин «хеджированная глобализация», когда страны, помимо региональных соглашений, начинают точечно согласовывать двусторонние, не всегда системные договоренности, просто чтобы в конкретном моменте обезопасить конкретную отрасль, раздел торговли и обеспечить себе варианты дальнейшего развития.
— Давайте напоследок поговорим о последствиях деглобализации. Задам вопрос так. В экономической истории в период так называемого Нового времени, то есть периода примерно c XV до конца XIX века, довольно популярна была политика меркантилизма. Она подразумевала защиту странами своих национальных интересов через систему пошлин, торговых барьеров и так далее. Такая политика провоцирует войны и, по большому счету, приводит к возникновению колониальных империй. Повторяется ли сейчас история?
— В вопросе есть два аспекта. Первый, о котором я уже говорила, в том, что мировая экономика в любом случае циклична. Страны проходят путь от передачи полномочий на надгосударственный уровень и желания получить максимум от совместных договоренностей, до возврата и отката к защите своих границ. Это неизбежная ситуация, она не является планетарной трагедией, за этим просто нужно наблюдать.
Как я уже сказала, мы находимся в зоне воинствующего эгоизма отдельных стран, которые поняли, что от общих правил открытости, безграничности, низких тарифов начинают терять свои собственные возможности национального развития.
С другой стороны, не соглашусь, потому что если мы берем тот же ВРЭП, то в этом объединении, наоборот, идет активный процесс налаживания связей. Происходит то, чего не ждали от Китая, Южной Кореи, Японии: они договорились, готовы играть по общим правилам и как раз продолжают снижать взаимные тарифы. Поэтому отличие от XIX века в том, что тогда действительно все пытались отвоевать свой кусок пирога, выстраивая региональные блоки.
Пока мы наблюдаем, скорее, не попытку создать колониальную империю, а хоть как-то удержать статус-кво. Лидирующие экономики, которые отходят на второй план, в частности США и Европейский Союз, чувствуют, что теряют влияние, экономический вес, долю в мировой торговле. Тарифы Трампа — это своего рода кульминация бессилия: когда становится очевидно, что власть уходит, предпринимается попытка ее удержать, устанавливая преграды — те самые тарифы.
А если мы возвращаемся опять к странам мирового большинства, то там как раз идет процесс продуктивного взаимодействия, поиска общих принципов, норм, интересов и договоренностей.
Поэтому нет, это не повторение XIX века, а смена лидеров мировой экономики, когда старые лидеры всеми возможными, не всегда логичными и разумными средствами пытаются удержать былое свое величие.
— Как процесс будет развиваться дальше?
— Через нашу с вами беседу красной нитью проходит слово «глобализация», хотя говорим мы, в общем-то, немного о другом. И у меня родилась мысль, что, может быть, глобализация тех самых последних 10−20 лет и не была истинной глобализацией, а это была монополия с четко продиктованными правилами. Эти правила гласили, что все будут счастливы от того, что есть доллар, есть безопасный американский долг, который равномерно распределен между всеми. Но, по большому счету, это была глобализация не в смысле всеобщей интеграции, а укрупнение, глобальная экспансия единственного лидера: его валюты, финансов, ценностей и так далее. И мне хочется надеяться, что сейчас мы находимся на этапе формирования новой, справедливой, многополярной, подлинной глобализации, где распределение и затрат, и возможностей будет максимально равноправно и равномерно с учетом настоящего экономического положения новых стран-лидеров. И новая глобализация будет учитывать интересы мирового большинства.
Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag