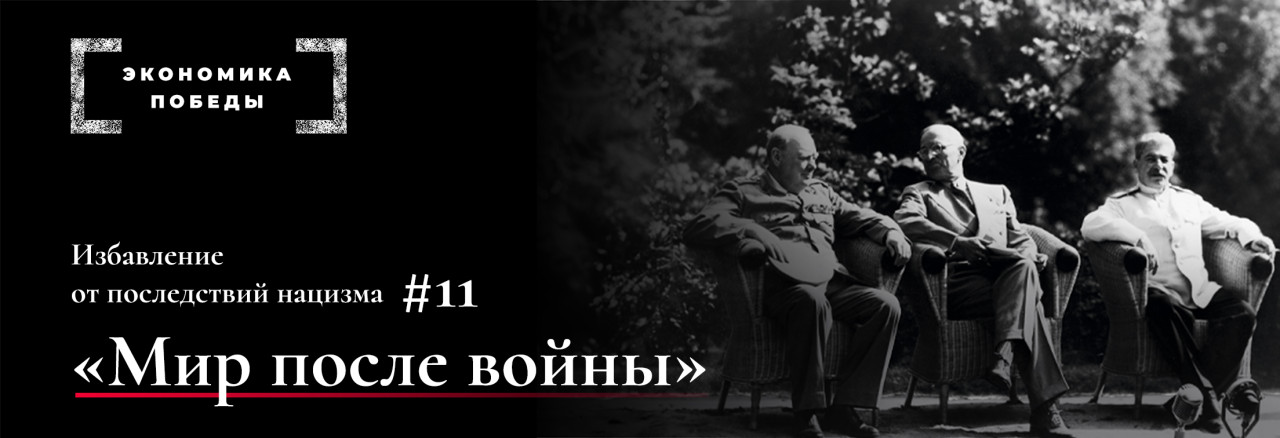— Отношение к ГЧП как форме партнерства на рынке сегодня разное. Но это один из немногих эффективных инструментов по привлечению частных инвестиций, в том числе в коммунальную инфраструктуру. Что за последнее время произошло в этих отношениях между бизнесом и государством?
— Действительно, сегодня много уделяется внимания частному государственному партнерству. И мы являемся одним из ключевых игроков на этом рынке. Законодательные изменения в этой сфере происходят достаточно серьезные в этой сфере. Здесь стоит отметить, наверное, большую прозрачность этого механизма в последнее время. Больше требований к концессионеру, которые позволяют надеяться, что на этом рынке будут работать игроки, которые планируют и вкладывать в инфраструктуру, и долгие годы ее эксплуатировать.
В прошлом году было приняло постановление правительства, которое сейчас вступает в силу и повышает требования к таким концессионерам. То есть, фирма-однодневка уже не может заключить концессионное соглашение. На этом рынке должны быть только те, кто с опытом, с пониманием и с экспертизой будет работать и приносить пользу гражданам, и модернизировать инфраструктуру. Это с одной стороны.
С другой — достаточно много изменений, связанных с тем, что окупаемость очень долгая в таких проектах. И без поддержки со стороны государства обойтись очень сложно. И те проекты, которые сейчас Минстрой РФ реализовал в части нацпроекта «Инфраструктура для жизни», они очень сильно помогают концессиям. Улучшают возможность привлечения внебюджетного финансирования, повышают устойчивость проектов и помогают снизить нагрузку на граждан. То есть рост тарифа при реализации инвестиционных проектов не такой ощутимый, как был бы без государственной поддержки.
Поэтому наша задача сейчас — интегрировать формы государственной поддержки в концессионное соглашение, чтобы сделать такой эффективный микс государственных средств и средств частного инвестора. Наверное, это такие ключевые изменения. И конечно, очень много тонкой настройки сейчас ведется. Если сравнивать законодательство середины десятых годов в части концессий и сейчас, то можно увидеть, что сегодня это очень прозрачный, понятный механизм. И для публичной стороны, и для нас, и для частных инвесторов. И серьезно защищает права каждой из сторон. Поэтому я уверена, что в этом инструменте будущее и он будет активно развиваться.
— Недавно был подготовлен отчет Счетной палаты об использовании механизмов ГЧП, конкретно концессий в жилищно-коммунальной инфраструктуре. Аудиторы сделали вывод, что в стране существует огромное количество притворных концессий, — когда мелкая компания берет в долгосрочную аренду котельную в малом городе, ничего туда не вкладывает, но эксплуатирует. Что сейчас будет с такими концессиями? По логике их надо отдавать крупному оператору, который в состоянии провести экспертизу, привлечь деньги, наладить операционную работу. А готов ли крупный оператор браться за малые города?
— Безусловно, крупные операторы в нашем лице готовы браться за малые города. Стоит отметить, что, конечно, прийти крупной федеральной компании или любому другому оператору просто в малый город в регионе и начать с него — это достаточно сложно и обременительно. Потому что всё-таки мы регулируемый вид деятельности — в конечном итоге расходы, которые мы понесем на создание сильной команды в малом городе, лягут на плечи в том числе этого города. Поэтому, конечно, нужно реализовывать более комплексную модель. И когда мы работаем в региональном центре, например в Тюмени, мы реализуем проект так называемого регионального оператора. То есть до конца этого года практически все малые города Тюменской области перейдут в концессию к Росводоканалу. Сейчас ведется оформление всех этих необходимых документов. Мне кажется, что такая модель наиболее перспективна. На самом деле она отражает правильное взаимодействие между государством на федеральном уровне, регионом и частным инвестором. Потому что получить только главный город в регионе, столицу, с ее платежной дисциплиной, с возможностью роста тарифов — это, конечно, очень хорошо. Но жизнь в малых города также должна быть на достойном уровне, а сегодня состояние водоснабжения и водоотведения во многих из них вызывает много вопросов. Государство ставит цель — к 2030 г. преобразить коммунальную энергетику. И ограничиваться только региональными центрами нельзя, нужно идти в малые города.
— Президент не так давно тоже поднимал тему ГЧП, и было соответствующее поручение. По нему, корпорация развития ВЭБ.РФ будет выступать фильтром, который будет оценивать целесообразность внедрения той или иной формы государственно-частного партнерства в различных проектах. На ваш взгляд, появление всеми признанного фильтра будет способствовать росту числа ГЧП-соглашений?
— Мы давно в партнерстве в ВЭБ.РФ, и они явились таким катализатором направления развития для нас. За последние годы у нас увеличилось число концессий, которые мы заключаем, в том числе благодаря партнерству с ВЭБом. Мы здесь очень им благодарны.
В ближайшие пару месяцев мы заключим очередное концессионное соглашение, несмотря на все наши заградительные ставки. В Комсомольске-на-Амуре при поддержке ВЭБ.РФ будет заключено концессионное соглашение, которое позволит кардинально преобразить инфраструктуру Комсомольска. Поэтому для крупных игроков, которые делают квалифицированную концессию на высоком экспертном уровне, готовы вкладывать собственные инвестиции и привлекать заемное финансирование, конечно, поддержка ВЭБа является катализатором. И в текущее время, по сути, без их поддержки, наверное, сложно было бы заключать тот объем концессий, который есть у Росводоканала.
Но для тех, кто привык, как вы сказали, к псевдоконцессиям, наверное, новая конфигурация действительно будет фильтром. И позволит не допустить создания таких концессий, когда никакого инвестиционного рычага не возникает, не возникает опережающих инвестиций. То есть, по сути, происходит подмена управления активом.
— Одна из существенных групп претензий к действующим механизмам ГЧП — неравномерное распределение рисков между частной и публичной стороной. Действительно, в некоторых проектах появляется тот факт, что частная сторона, по большому счету, ничем не рискует. В то время как все расходы, в том числе и связанные с ростом ключевой ставки, несет на себе публичная сторона, то есть государство. На ваш взгляд, как могут быть справедливо перераспределены такие риски в новых условиях реализации концессий и других форм ГЧП?
— Здесь, знаете, такая двоякая ситуация. У нас единственным плательщиком является гражданин, который должен быть социально защищен от кратного роста тарифов, от каких-то иных действий, которые не соответствуют социальной политике. Поэтому, конечно же, ключевым гарантом платежной дисциплины, динамики роста тарифов является государство. И здесь, наверное, сложно что-то подменить, пока у нас тарифное регулирование, пока все потребители оплачивают по тарифам. Любой перекос в эту сторону может быть только в случае альтернативы — например, как в теплоснабжении. У нас есть механизм альтернативной котельной, где свободные цены на тепло и промышленные потребители платят по свободным ценам. Там, соответственно, уже возможно какое-то распределение риска в этой части. В водоснабжении у нас пока действует полностью тарифное регулирование, гарантом, конечно же, будет выступать публичная сторона.
Но я не соглашусь, что на нас нет никаких рисков. У нас, скорее, риски, связанные с качеством исполнения инвестиционной программы. И здесь, помимо эксплуатационных характеристик, которые мы должны достичь, сейчас очень большое внимание уделяется именно огромным инвестициям, которые вкладываются в проект. И компания очень много внимания уделяет техническому контролю за строительством, чтобы не допустить сбоев, строительному контролю. То есть здесь проекты должны реализовываться в строгом соответствии с графиком при условии, что они еще и имеют определенную долю государственной поддержки инвестиций. И риски, которые лежат на нас в этой части, достаточно существенные, и мы стараемся управлять этими рисками.
— Насколько, на ваш взгляд, справедливы нынешние тарифы на воду для населения? И есть ли смысл делать эти тарифы дифференцированными?
— Население в целом достаточно равномерно использует воду. А вот в промышленности или частном секторе ситуация иная. Возьмем, например, жилой дом 40 кв. м, где проживает семья и пользуется одним умывальником. И коттедж, который сливает раз в неделю бассейн. Ситуация разная. Поэтому здесь, наверное, действительно, можно говорить о какой-то дифференциации.
То же самое в промышленности. Возможны подходы к тому, чтобы говорить о дифференциации тарифов. И у промышленников во многом есть альтернатива. Крупные промышленники бурят свои скважины, делают свои очистные сооружения. И здесь, конечно, мы конкурируем с их внутренней возможностью поставлять себе воду и очищать стоки. Поэтому здесь возможны какие-то варианты по аналогии, например, с рынком тепла. Мы думаем об этом, но это точно не вопрос ближайшего года-двух. Это концептуальные изменения, о которых можно говорить в пятилетней, десятилетней перспективе.
По поводу справедливости тарифов. Например, в каком-то месяце требуется увеличить тарифы на 25%. Это действительно существенно, это социальный взрыв, волнение. С другой стороны, эти 25% — это бутылка воды. То есть платеж гражданина в месяц меняется на стоимость бутылки воды, хотя он потребляет существенно больше. Готовы ли граждане покупать дополнительную бутылку воды, оплачивать ее или, например, стакан кофе, но при этом понимая, что эти деньги идут на инвестиции, позволяют модернизировать инфраструктуру, создавать новое качество жизни. И может быть, новый тариф был бы принят гражданами, если бы он был с помощью как раз СМИ донесен именно таким образом, что это более справедливая цена и небольшое увеличение платежа, которое сопоставимо с кружкой кофе.
— Городское население растет. Эта тенденция есть во всем мире. Хватит ли воды всем в России?
— У нас страна очень большая и инфраструктура везде разная. И действительно, к сожалению, у нас есть такие города, в которых динамика строительства сдерживается сейчас тем, что невозможно предоставить туда воду. Причем это такие достаточно высоко потенциальные регионы. Тот же Кавказ, черноморское побережье, — вроде у моря, вода, но тем не менее мы сталкиваемся с ситуацией, когда прекращается выдача разрешений на строительство жилья ровно потому, что невозможно предоставить питьевую воду. С другой стороны, как раз это, наверное, является стимулом для заключения концессионных соглашений для того, чтобы реализовать крупные проекты водоводов, крупные проекты по опреснению. Для того, чтобы проблема с водой не касалась строителей и они могли строить там, где хотят, а не только там, где есть вода.
Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag