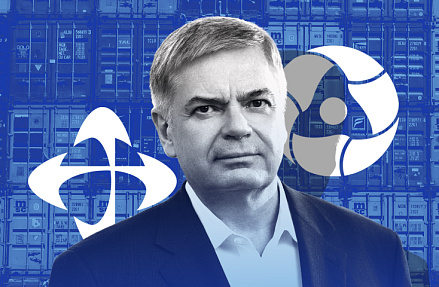— Как бы вы оценили полезность цифровых финансовых активов? Хотя объем рынка уже превысил 1 трлн руб., из 17 операторов выпуска ЦФА, по данным Мосбиржи и Банка России, активны сейчас только девять.
— Во-первых, цифровой финансовый актив прежде всего запускался как инвестиционный инструмент. Это его ключевая функция. И триллионные размещения, о которых вы говорите, тот рынок, который сформировался за прошедшие годы, имеют значение. Мы все знаем, что цифровой финансовый актив, по сравнению с традиционными финансовыми инструментами, позволяет определенные процедуры проводить проще и быстрее. Благодаря этому проявляется интерес как со стороны эмитентов, которые таким образом привлекают финансирование, так и со стороны тех, кто эти ЦФА приобретает, инвестируя свои средства.
Сегодня с точки зрения уже осуществленных выпусков преобладают долговые ЦФА, то есть это рынок долга. Как правило, он достаточно короткий — до одного года. В этом плане ЦФА — не замена традиционным инструментам, а дополнение. Поскольку традиционный рынок корпоративных облигаций, безусловно, существенно дольше того срока, который я назвал. ЦФА позволяет занимать денежные средства, а инвестору — получать доходность. Причем достаточно быстро и в простом формате.
Безусловно, развиваются и другие направления использования ЦФА. Вы упомянули трансграничный функционал. Он стал доступен с прошлого года, когда были реализованы изменения в законодательстве. На сегодняшний день у нас есть законодательная возможность использовать цифровой финансовый актив именно как средство платежа для трансграничных расчетов. Вы правильно сказали, что речь о его использовании внутри страны не идет. Она никогда, собственно, не шла. Мы всегда ориентировались на внешний контур. Но нельзя сказать, что не было никаких успехов и подвижек в этой сфере. Ряд участников, в том числе крупнейших, уже протестировали такие инструменты и сами транзакции — есть понятная готовая механика, апробированная с рядом иностранных юрисдикций. И это огромнейший шаг вперед. Другое дело, что ЦФА, как инструмент для трансграничного платежа, встал в одну линейку с другими инструментами по проведению платежей.
— С какими?
— Это традиционный банкинг и все другие механизмы, которые на сегодняшний день используются. То есть это только один из элементов «меню». И внутри финансовых институтов, и между участниками ВЭД (внешнеэкономической деятельности. — «Эксперт») выбор в пользу этого инструмента будет делаться на основе того, насколько он удобен, насколько дорогой или дешевый. Поэтому самое главное, что решение есть, оно апробировано, дальше дело за рынком.
— Откуда уверенность, что он будет востребован среди участников ВЭД? Возвращаясь к предыдущему вопросу: хайп прошел или всё впереди?
— Хайп не прошел, но хайпа и не было. Это ожидаемый запрос на расширение линейки инструментов для осуществления трансграничных платежей, и по большому счету он уже реализовался. Причем дело не ограничивается только российскими ЦФА, выпущенными при посредничестве российских операторов информационных систем. Напомню, что законодательство позволяет онбордить (от англ. onboarding — адаптация) иностранные цифровые финансовые активы, которые выпускаются в информационных системах в рамках правовых систем иностранных юрисдикций. Сегодня такие инструменты и пилотные проекты тоже готовятся. То есть это цифровые финансовые активы, выпущенные в других странах, которые можно онбордить здесь, приобретать на российской инфраструктуре и также их использовать как средства платежа.
— Поскольку рынок ЦФА только формируется, у его участников — эмитентов, площадок, инвесторов — есть возможность выступать маркетмейкерами и за счет этого дополнительно зарабатывать на комиссиях. Нужно ли внимание Минфина к вопросу расширения числа эмитентов и инвесторов?
— Сам по себе оборот, наличие маркетмейкера — это уже хорошо. Это означает, что у инструмента есть необходимая ликвидность, есть вторичный оборот. Но в случае с ЦФА как раз ликвидность и возможность вторичного оборота — это вопросы, над которыми мы совместно с Банком России и участниками рынка активно думаем. Потому что расширение ликвидности сейчас ограничено конкретным оператором и теми ЦФА, которые на его инфраструктуре выпускаются. Наша задача — обеспечить бесшовный доступ потенциальных клиентов к различным ЦФА, выпущенным на различных информационных системах. И профессиональных участников традиционной инфраструктуры можно в перспективе к этому процессу привлекать.
Речь идет о том, чтобы технологические платформы — операторы информационных систем — могли между собой общаться, когда будут созданы лучшие условия для того, чтобы вторичный оборот осуществлялся. То есть выпущенный на одной платформе цифровой финансовый актив может быть приобретен на другой. Это вопрос как технической интеграции, так и решения различных регуляторных вопросов. Самое главное, что такая работа ведется.
— Какие барьеры Минфин вынужден преодолевать, чтобы прийти к более широкому применению ЦФА?
— Это фрагментация, о которой я сказал: нужно, чтобы у нас был общий пул ликвидности. Это информационная интеграция операторов. Возможно, в перспективе [появится] даже какой-то единый стандарт тех токенов, которые являются цифровыми финансовыми активами. Хотя в целом бизнес проявляет интерес.
Триллион — немаленькая цифра, и здесь мы будем прикладывать все усилия, чтобы барьеры, о которых я сказал выше, минимизировать. Вы, наверное, ждете от меня ответа на вопрос, связанный с долговыми ЦФА и изменением подхода в рамках налогообложения? Вопрос того, чтобы расходы по долговым ЦФА попадали в общую налоговую базу, интересует всех эмитентов (налогообложение операций с ЦФА сегодня осуществляется вне общей налоговой базы, что создает дополнительную финансовую нагрузку на эмитента. — «Эксперт»). Этот вопрос с ЦБ мы уже доводим до финишной прямой. Сближение подходов налицо, поэтому в ближайшее время это будет реализовано.
— Вторую часть нашего разговора предлагаю посвятить программе долгосрочных сбережений (ПДС) граждан, которая на начало года охватила порядка 3,3 млн договоров. По этой программе Минфин планирует привлечь от населения около 750 млрд руб. к концу 2025 г. Насколько реальны эти планы?
— Эта цифра как целевой ориентир обозначена президентом. Это не план Минфина, а [задача] гораздо более высокого порядка. Сегодня цифры уже другие: больше 6 млн договоров [подписано по этой программе], а объем привлеченных средств — около 450 млрд руб. Видим по динамике, учитывая сентябрь, что к концу года мы с большой долей вероятности к этому таргету приблизимся. Программа пользуется спросом, динамика положительная.
— Президент России в 2023-м говорил, что объем ресурсов по программам долгосрочных сбережений к 2026 г. может достичь 1% ВВП. Какие меры Минфин предпринимает, чтобы мотивировать россиян участвовать в программе. И можно ли воспринимать снижение ключевой ставки как «попутный ветер»?
— Достижение этих цифр возможно и очень вероятно. Что касается стимулов, то они заложены в условия программы изначально: это и софинансирование от государства, и возможность получения налогового вычета, и повышенная страховая защита. Это ключевые факторы для принятия гражданами решений о вступлении в эту программу. 6 млн человек в эти стимулы поверили. А буквально на днях наши граждане получили софинансирование по средствам, которые были вложены в прошлом году. Я думаю, это тоже окажется существенным фактором в пользу дальнейшего вовлечения в эту программу.
В целом вместе с участниками рынка и регулятором мы сформировали понятный клиентский опыт по вступлению в эту программу. Кстати, сейчас можно вступать в программу даже через «Госуслуги». Мы продолжим отслеживать обратную связь и по необходимости предлагать какие-то улучшения.
— Какие вообще каналы, кроме «Госуслуг», для интеграции ПДС остались? Или все уже исчерпаны?
— С точки зрения государства портал «Госуслуги» — очень хорошая коммуникационная инфраструктура. Но, помимо этого, с момента запуска программы мы проводим масштабную информационную кампанию — и на уровне социальной рекламы, и на уровне общения в регионах с лицами, принимающими решения, и рядовыми гражданами, а также через инфраструктуру финансовой грамотности. Всё это работает и дает результат.
Но конкретные предложения, конкретный продукт предлагают непосредственно НПФ, которые работают со своей клиентской базой и новой аудиторией. Делают это как напрямую, так и в рамках группы компаний с привлечением кредитных организаций. Предлагаются даже комбинированные продукты, где можно получить более привлекательные условия по банковскому вкладу, если человек в какой-то пропорции участвует в программе долгосрочных сбережений. По поводу ставки... Безусловно, мы ожидаем, что какое-то влияние на принятие решения она окажет. Но даже в условиях жесткой денежно-кредитной политики и высоких ставок 6 млн человек и 450 млрд руб. означают, что в целом этот инструмент занимает свое место во всей линейке для сбережений.
— Каков средний остаток средств на счете ПДС?
— Не готов ответить, к сожалению. Боюсь ошибиться.
— У Минфина были планы по созданию семейных инструментов сбережений. В частности, создание семейного ИИС (индивидуального инвестиционного счета), предполагающего увеличенный налоговый вычет — до миллиона рублей. Министерство от этих планов не отказывалось?
— Не отказывалось. Здесь, наверное, идет речь о линейке семейных сбережений, не только ИИС. Мы в целом говорим о том, что у нас долгосрочные сбережения — это и ИИС, и ПДС, и долевое страхование жизни (ДСЖ). Но ключевым фактором является повышение налогового вычета до 1 млн руб. на семью. Эти планы в работе, и, надеемся, в ближайшее время они будут реализованы как законодательные инициативы. И всё то, о чем говорилось ранее, с повестки не снимается. До конца года или даже раньше эта тема получит развитие.
— В феврале вы говорили про стимулирование работодателей к внесению взносов в ПДС для сотрудников. Уже понятно, как будет идти работа с корпоративной частью программ?
— Действительно, работодатели, рынок и мы видим здесь большой потенциал. Обратная связь, которую мы получаем, говорит о том, что это может стать частью социального пакета для сотрудников. Важно подчеркнуть, что это не замена тем корпоративным пенсионным программам, которые реализуются, — это, скорее, дополнение. Программа долгосрочных сбережений может использоваться как прибавка к пенсии в будущем, но этим вопрос не ограничивается. Это всё-таки подушка безопасности и потенциал для получения дополнительного дохода в будущем. Чтобы эта часть социального пакета, интегрированная в программу корпоративного пенсионного обеспечения, стала интересна работодателям, нужно выровнять ее с точки зрения налогообложения. Прежде всего тех средств, которые направляются работодателями на программу долгосрочных сбережений. Соответствующие инициативы уже подготовлены. И речь там идет о том, чтобы налогообложение было не хуже, чем по отчислениям в рамках корпоративных пенсионных программ.
— Не боитесь потеснить существующие схемы корпоративного пенсионного обеспечения? Насколько страховые компании готовы комбинировать свои программы с ПДС?
— Корпоративные пенсионные программы — это те же самые участники рынка, это НПФ. И дискуссия между работодателями и НПФами по комбинации этих продуктов идет достаточно успешно. То есть это может быть наличие уже действующего пенсионного плана, к которому привязаны отчисления работодателя в корпоративную пенсионную программу в зависимости от того, сколько средств сотрудника вложены в ПДС. В общем, могут быть разные комбинации. И здесь речь не о конкуренции, а, скорее, о синергии и дополнении одного продукта другим.
— Напоследок вопрос про эксперимент по партнерскому финансированию. Осенью он должен был завершиться, но решили продлить до 2028 г. В чем этот эксперимент заключается и кто в нем участвует?
— Партнерское финансирование — это финансовая деятельность, основанная на религиозно-этических принципах. В ее основе лежит другой формат распределения рисков — лицо, организация, предоставляющая денежные средства, в полной мере становится участником того проекта, на который денежные средства привлекаются. Это и другие особенности: отказ от ссудных процентов, от отдельных «неэтичных», скажем так, видов деятельности, на которые могут привлекаться средства.
Задачей эксперимента было институционализировать эту деятельность, поскольку она в рамках действующего регулирования не запрещена. Все сделки такого рода можно структурировать в рамках текущего гражданского законодательства. Другое дело, что с учетом их специфики потребовалось отдельно оформлять их, указывая все перечисленные особенности, в законе об эксперименте.
На сегодняшний день участвуют четыре субъекта: Чечня, Дагестан, Татарстан и Башкортостан. Участие в эксперименте организаций, которые занимаются партнерским финансированием, добровольное. Есть специальный реестр, который ведет ЦБ. И компании, которые этим занимаются, входят в этот реестр, работают по тем определениям и правилам, которые установлены в законе об эксперименте. По большому счету первый этап показал, что востребованность такого рода услуг есть. Произошло развитие определенного розничного сегмента, начал развиваться сегмент B2B.
И следующий этап эксперимента, который начался по факту в сентябре 2025 г., направлен как раз на то, чтобы «дообкатать» те процессы. Появились новые продукты в линейке инструментов партнерского финансирования. Наша задача на новом этапе — сфокусироваться на B2B, чтобы у нашего бизнеса было больше возможностей привлекать ресурсы. Причем не только у внутренних инвесторов, но и от зарубежных — прежде всего из стран Персидского залива.
Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag