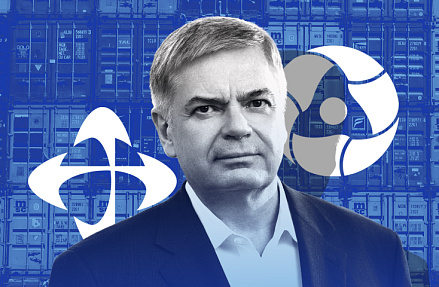Телекоммуникационные компании оказались на распутье. Они достигли определенного предела своего развития, но им надо расти дальше. Какой у них выбор: становиться все более универсальными, предоставляя клиенту еще больше услуг, или, наоборот, выбрать специализацию, но стать лучшим в своей области?
Каждый выбирает свою стратегию, и мы видим на рынке разные варианты. Для нас главная точка роста, помимо мобильных услуг в розничном бизнесе, — корпоративный сегмент, B2B, который сейчас растет быстрее других, и разработка для него специализированных решений, в том числе на основе искусственного интеллекта.
Отмечу также как точку роста рынок виртуальных операторов — MVNO (mobile virtual network operator). MVNO-модель для традиционных операторов, с одной стороны, повод для беспокойства, с другой — источник дополнительной выручки и способ более гибко работать с разными аудиториями. Мы уже сотрудничаем с Альфа-банком в этом направлении и планируем развивать структуру партнерской сети.
Сейчас в России происходит небольшой переток из телекомов — в пределах 10% абонентской базы. Уходят, как правило, к виртуальным операторам на базе банков, но интерес к рынку проявляют и маркетплейсы. Это может расслабить традиционных операторов: «10% перетечет — и бог с ними, а остальное будет наше». Но важно понимать, что в масштабах рынка 10% — это очень много клиентов, и оператор здесь рискует стать частью чужой экосистемы. К тому же зарубежные рынки показывают, что доля MVNO может вырасти и до 20%. Поэтому мы для себя выбираем самостоятельный путь и активно идем в партнерство там, где можно создать новую ценность для клиентов.
Давайте поясним читателю, в чем риски перехода клиента к виртуальному оператору? Это же, по сути, просто дополнительная витрина. Ну, допустим, продает Альфа-банк абоненту «свой» номер, но получать плату за его обслуживание все равно будет телеком-оператор.
Есть несколько моделей работы виртуального оператора. Самая простая — только продажа номера и обеспечение оплаты услуг. Также оператор может брать на себя значимую часть работы — биллинги, соединения, CRM-систему, службу поддержки, а у телеком-оператора покупать только услуги инфраструктуры радиосети базовой станции.
В целом, как показывает российская практика, виртуальный оператор сам по себе сложно выходит на рентабельность. Для него важно не столько продать услугу связи, сколько получить через нее дополнительные данные или предоставить клиенту какие-то уже собственные услуги. То есть «свой» номер — это еще одна точка контакта с клиентом.
Складывается впечатление, что телеком-операторы сейчас по своему функционалу в целом сближаются с IT-компаниями. Стоит ли ожидать сделок по слиянию и объединению телекомов с традиционным IT и с образованием цифровых конгломератов на рынке?
Телекомы действительно идут в цифровые решения, востребованные среди клиентов. Это проникновение взаимное и сопровождается в том числе М&A-активностью. Так что тренд намечается, но прямо сейчас с учетом нашей экономической конъюнктуры рынок выглядит иначе. Инвестпроект при нынешней стоимости денег — это достаточно тяжелая сделка с точки зрения возврата и окупаемости. Некоторые игроки находятся в сложном финансовом положении. Поэтому в кратко- и среднесрочной перспективе мы наблюдаем замедление M&A-активности.
«Билайн» инвестирует в комплементарные направления. Например, мы приобрели компании DataFort, CDNvideo и PlatformCraft, которые дают нам новые компетенции в развитии облачных сервисов и в сфере доставки контента. Кроме того, мы увидели большой потенциал в рекламных технологиях, поэтому осуществили несколько сделок в сфере автоматизации и планирования закупок рекламы. Также мы поддерживаем инновации и через корпоративный фонд «Хайв», в портфеле которого уже 16 стартапов.
Многие игроки действуют схожим образом: у кого-то есть корпоративный венчурный фонд, кто-то идет сразу в M&A.

Цены на связь, на мобильный и стационарный интернет в России едва ли не самые низкие в мире. Вероятно, это можно объяснить достаточной конкуренцией на рынке и низким уровнем государственного регулирования. Сейчас госвлияние во всех отраслях растет, что, на ваш взгляд, нужно начать регулировать в сфере телекоммуникации?
Давайте рассмотрим на примере банковской сферы, что в принципе может дать регулирование. На рынке сотни банков, рентабельность отрасли очень высокая. И регулятор через различные нормативы не позволяет игрокам проводить сверхагрессивные коммерческие стратегии, уводя рентабельность и устойчивость организации ниже заданного уровня. В телеком-сфере такого сдерживания нет, и бывает, что клиентов привлекают за счет крайне низкой рентабельности. Такие случаи замедляют развитие отрасли в целом.
Однако я считаю, что действующих инструментов антимонопольного контроля и регулирования в части цен и тарифов вполне достаточно и усиливать регулирование не нужно. Потому что существующее макроэкономическое давление и обременение операторов инфраструктурными задачами в интересах цифровизации экономики выполняют роль холодного душа — вынуждают операторов искать возможность дифференцироваться, предоставлять сервисы, за которые клиенты готовы платить справедливую стоимость, и одновременно находить возможности инвестировать в развитие. Рынок у нас небольшой, и конкуренция жесткая.
Интернет по сути своей среда универсальная и границ не признающая. Его трансграничность стала одной из составляющих успеха глобальных цифровых компаний. Сейчас границы появились, более того, они становятся все более осязаемыми: блокировки доступа на иностранные ресурсы, запрет на хранение данных за границей и так далее. Для вас как для коммуникационного бизнеса эти ограничения — помеха или возможность заработать?
С одной стороны, рост ограничений вызывает недовольство клиентов: все привыкли к иностранным сервисам, а они вдруг перестают работать. Свое недовольство клиенты переносят на операторов связи, хотя мы в этом случае лишь выполняем регуляторные требования. Но в то же время возникает пространство для развития отечественных сервисов и инфраструктуры в стране. Мы стараемся найти себя в этих изменениях, сформировать новые точки роста вроде тех же облачных решений. Проходя через определенные неудобства, мы видим новые возможности для зарабатывания и сохранения денег в стране.
Особо отмечу блокировки мобильного интернета по требованиям безопасности, которые сейчас происходят всё чаще. Это явление другого порядка, и здесь мы не считаем допустимым ловить конъюнктуру — вводить блокировки позже или в меньшем объеме, чем другие операторы, подвергая граждан риску. Местами мы наблюдаем такую практику, но считаем ее неприемлемой — фактически это игра с жизнью людей.
Что мы можем и должны делать в таких условиях — это искать способы приоритизации трафика, сегментации доступа, обеспечения устойчивости связи для жизненно важных сервисов: портала «Госуслуги», банковских приложений, платежных систем, экстренных уведомлений. Мы видим такие технические возможности и активно участвуем — и даже лидируем — в проработке механизмов совместно с рынком и государством. Здесь мы фокусируем внимание именно на выстраивании эффективного взаимодействия с местными властями, чтобы принимать меры максимально организованно, тогда, когда нужно.
Кто вообще инициирует отключение мобильного интернета — оператор или местные власти?
Это каждый раз происходит по-разному, но сейчас ведется проработка унифицированного подхода к процессу. Мы находимся в хорошем диалоге с профильным министерством и с силовым блоком по этому вопросу. Думаю, что в обозримом будущем новый подход будет зафиксирован в отдельном регламенте.
Альтернативой мобильному интернету может стать интернет низкоорбитальный. Российские разработки в этой области сейчас находятся на, скажем так, зачаточном уровне. Как вы оцениваете усилия консорциума «Бюро 1440» по созданию российской сети спутникового интернета? И что он даст нового по сравнению с мобильным интернетом?
Состояние проекта чуть больше, чем зачаточное: несколько спутников уже на орбите. Вопрос сейчас стоит в масштабировании группировки и подготовке наземной инфраструктуры для коммерческого использования.
Угроза ли это мобильной связи? Проблема ли для операторов? В том объеме и в том виде, в котором сейчас это реализуется на обозримом горизонте, это не конкуренция, а дополнение сетям мобильной связи. Это возможность предоставить связь в тех местах, где нет мобильного покрытия. То есть тут нет речи о том, что люди перестанут пользоваться мобильной связью и начнут использовать только спутниковую.
Тянуть оптику до базовых станций не везде экономически рационально, и взаимодействие с низкоорбитальной группировкой дает альтернативный канал. Мы уже подписали контракт с «Бюро 1440», а недавно подготовили соглашение с АО «Решетнев», поэтому мы скорее приветствуем появление этих технологий и ожидаем внедрения новой, которая называется D2C — Direct to Self Customer — когда телефон подключается непосредственно к спутнику. Сейчас мы вырабатываем правильный сценарий для использования этой технологии в момент, когда она станет доступна.
Вы крупный заказчик оборудования. Как вы оцениваете темпы импортозамещения в своей отрасли? Есть ли у российской радиоэлектронной промышленности шанс полностью обеспечить внутренний спрос и нужно ли ей пытаться это сделать?
Вопросы про «можно» и «нужно» мы оставляем государству. Это всё про суверенитет.
В 2022 году мы все, к сожалению, увидели, как оборудование может перестать быть оборудованием и стать просто железом
Есть ключевые, критические элементы оборудования и программного обеспечения, которые требуют создания собственных аналогов. И даже не аналогов, ведь, как говорит президент, «не надо догонять, надо свое делать». Много где мы видим разработку действительно своих образцов.
Задача эта, безусловно, непростая — возьмем хотя бы базовые станции. То, что иностранные компании создавали десятилетиями, теперь приходится оперативно заменять отечественными решениями. Аналоги, особенно сложных систем, зачастую обходятся значительно дороже. Однако здесь снова встает вопрос технологического суверенитета: какая цена приемлема, если альтернатив попросту нет? Бесперебойность процессов порой важнее экономии. Для российских компаний и пользователей оборудования это серьезный вызов — перестроить бизнес-модели, осознавая рост издержек. Мы поддерживаем отечественных разработчиков, предоставляя им возможность закрепляться на рынке и наращивать производство.

Цифровые технологии развиваются быстрее, чем меняется сознание пользователя. Смартфон становится этаким универсальным идентификатором человека. Это ключ к банковскому счету, электронной почте, хранитель документов и т. д. От оператора во многом сохранность этого ключа и зависит. Что может сделать и что уже делает оператор для обеспечения безопасности? И от чего эта безопасность больше зависит: от технических возможностей самого смартфона или от того, что в голове у его владельца?
Свой подход к цифровой безопасности мы формулируем как «мысли глобально, действуй локально». То есть мы понимаем всю картинку, а дальше работаем по конкретным направлениям: где-то выстраиваем технологии, которых клиент может даже не замечать, а где-то помогаем ему осознанно реагировать на мошеннические действия. Приведу несколько примеров.
Наш «Виртуальный помощник» сам блокирует спам-звонки и сообщения. Если он понимает, что звонит точно спамер, он не пропускает вызов и присылает уведомление: вам звонили с такого-то номера, мы распознали звонок как потенциально опасный. Там, где нет однозначной уверенности, звонок проходит, но с предупреждением: это может быть спам, если вы примете решение ответить, будьте бдительны. Это повышает осознанность.
Недавно мы сделали следующий шаг: запустили контроль СМС-информирования от «Госуслуг» во время звонка. Если во время разговора на телефон клиента приходит код, звонок может быть разорван, чтобы клиент не передал код потенциальному мошеннику. Только за июнь мы заблокировали 6,5 млн мошеннических звонков и избавили примерно 2 млн человек от общения с аферистами.
Есть и другой сервис, который работает как бы в обратную сторону, — «Этикетка», который уведомляет клиента о том, кто ему звонит: университет, служба доставки, парикмахерская... Человек читает обозначение на экране и знает, что звонок безопасный, можно ответить. Ведь когда мы видим на экране незнакомый номер, мы часто сомневаемся, брать трубку или не брать.
То есть борьба с мошенниками на уровне звонков становится эффективнее, но и они не останавливаются, ищут новые способы. Или возвращают хорошо забытые старые вроде рассылки вредоносных ссылок и приложений, крадущих данные.
Я удивился, когда пообщался с коллегами и понял, что антивирусы на телефонах установлены процентов у семи пользователей, не более. Первое, что я сам ставлю на новый телефон, — это антивирус
Поэтому нашим новым продуктом, разработанным совместно с «Лабораторией Касперского», будет антивирус, непосредственно встроенный в сеть, который позволит принципиально поднять уровень защищенности смартфонов клиентов «Билайна». Уже сейчас, тестируя это решение, мы каждый день фиксируем примерно 180 тыс. случаев заражения устройств. Причем это будет актуально не только для обычных граждан, но и для малого бизнеса, у которого пока сложные отношения с кибербезом: задач много, а специалистов просто нет.
Сможет ли обычное физлицо поставить себе такую этикетку, чтобы у всех отображаться как конкретный человек, даже если его нет в записной книжке?
Насчет физлиц подумаем, идея неплохая. Сейчас мы работаем над тем, чтобы предоставлять такую услугу самозанятым — она станет доступна в ближайшее время.
Насколько санкции повлияли на цену роуминга? Есть ли такие иностранные партнеры, которые, ну, просто стали отказывать вам в роуминге?
У «Билайна» есть роуминг практически везде, за исключением нескольких экзотических и небольших стран. Здесь важно отметить: когда санкционная механика заработала, была оговорка, что санкции касаются в первую очередь оборудования. А вот услуги связи для людей — это некая база, которая не может подпадать под ограничения. Этот принцип не везде реализуется одинаково, но ответ на вопрос такой: связь с другими странами у нас сохраняется и работает. Есть, конечно, усложнение взаиморасчетов, более сложная организация процесса... Но в целом клиенты мобильных операторов имеют возможность оставаться на связи за границей. А подорожание роуминга связано в первую очередь с курсовой разницей и усложнением расчетов. Кроме того, у наших партнеров тоже растут расценки — у них своя инфляция.
Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag