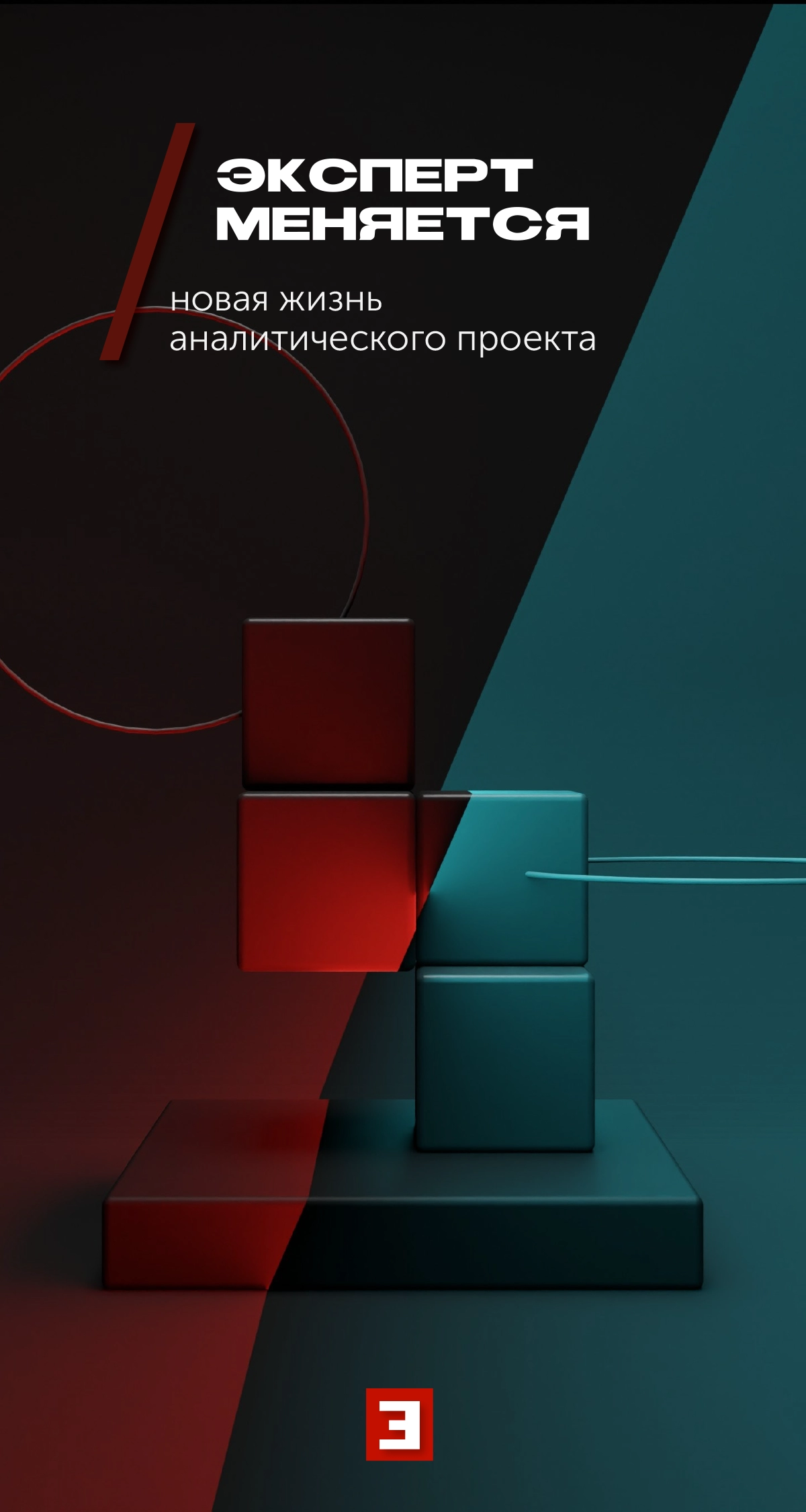По вере воздастся
Образ бальзаковского Гобсека явно устарел, следует из итогов соцопроса. Социологи выяснили, что среди более зажиточных граждан «доверчивые» люди составляют одну треть опрошенных, а среди менее успешных таких оказалось только 17%. Еще около трети опрошенных признались, что они постоянно ждут обмана со стороны тех, с кем приходится иметь дело.
В целом «недоверчивые» россияне составляют подавляющее большинство — около 70% опрошенных заявили, что в отношениях с окружающими требуется осторожность.
Слова «доверчивость» и «недоверчивость» повсюду в этом тексте взяты в кавычки, так как они не вполне точно обозначают суть явления, но в русском языке отсутствует более подходящий научный термин.
«Не надо путать доверие и доверчивость. Первое основано на понимании того, как работают общественные институты и потому ведет к успешной социальной интеграции. Второе ведет к тому, что человек становится легкой добычей мошенников. Драма в том, что легковерие часто является следствием низкого общего развития человека, а то, в свою очередь, не позволяет ему понять, что причина его бед в нем самом, а не в „неправильном“ устройстве общества или злонамеренности окружающих», — объяснил «Эксперту» зампредседателя научного совета ВЦИОМ Иосиф Дискин.
Самой скептически настроенной к окружающим категорией респондентов ВЦИОМ оказалась молодежь в возрасте до 25 лет. Более 80% респондентов в этой возрастной группе не склонны вести себя «душа нараспашку».
Недоверчивость молодежи, очевидно, вызвана отсутствием социального опыта, неразвитостью социальных цепочек.
«Скептицизм молодежи — это явление временное, и по мере взросления он уступает место более взвешенному отношению к окружающим в частности и институтам общества в целом. Водораздел проходится примерно на 40-летие. Если до этого рубежа человек не встроился в общественные цепочки, то, скорее всего, он останется неудачником до конца жизни», — говорит Иосиф Дискин.
В то же время, как показал опрос, пожилые люди в России целом настроены более доверительно. На это, указывает Дискин, влияет то, что пожилые люди сформировались как личности в советский период, когда социальный альтруизм и всеобщее братство если не всегда проявлялись в реальности, то декларировались как общественный идеал и всячески поощрялись.
По региональному признаку самыми «доверчивыми» оказались жители Северо-западного федерального округа — среди них таковых оказалось более 40%. ВЦИОМ не объясняет этот феномен, но можно предположить, что свою лепту внесло доминирование в СЗФО Санкт-Петербурга — города, считающегося культурной столицей с присущим многим его жителям «романтическим» менталитетом.
Только квартирный вопрос их испортил
Легко объяснимо преобладание «скептиков» в непривилегированных социальных группах (люди с невысоким уровнем образования, хронически бедные, жители села и др.). Именно в этих группах две трети опрошенных заявили ВЦИОМ, что считают окружающих эгоистами, думающими только о собственной выгоде.
Недоверчивость этой категории граждан к окружающим не обязательно является признаком их личного дурного характера. Скорее в них живет затаенная обида на общество, в котором им не удалось реализовать себя. Она также служит для них своего рода психологическим защитным механизмом в отношении других людей, мотивацию которых они не в состоянии понять или применить к себе. Гипертрофированная подозрительность является для них своего рода подсознательной «страховкой от несчастного случая». При этом сами они могут и не осознавать свою осторожность как защитный механизм из-за отсутствия склонности к саморефлексии.
Такие люди воспринимают окружающий мир враждебно, и вместо попыток встроиться в него они проявляют агрессию как позицию самообороны, подчеркивает Дискин.
«Недоверие к социальным и государственным институтам может происходить из-за того, что человек в силу узкого кругозора когда-то в жизни стал жертвой мошенничества. И он начинает переносить собственный негативный опыт на всю систему общественных отношений в целом. Это, в свою очередь, снижает его социальную активность, и человек попадает в замкнутый круг, в котором недоверие и неуспешность создают отрицательную синергию. Недоверие обесценивает социальный капитал точно так же, как хранение денег под подушкой из-за неверия в банковскую систему снижает ценность накоплений», — говорит эксперт ВЦИОМ.
Соотношение в российском обществе «доверчивых» и «недоверчивых» людей не меняется уже как минимум пять лет (аналогичный опрос, проведенный в 2018 году, показал примерно такое же соотношение). То есть соотношение «доверчивости» и благосостояния не зависит от внешних социально-экономических условий, а является некой константой.
Копайте глубже
Эксперты не видят в итогах опроса ВЦИОМ каких-то неожиданностей и парадоксов. Они указывают, что в России наших дней более-менее стабилизировались социальные паттерны, когда высокий уровень дохода коррелируется с высоким уровнем образования.
Такой взаимосвязи не существовало в генерации «новых русских» в 1990–2000-е годы, более того, в период «дикого капитализма» эта связь была скорее противоположной. Но это не противоречит утверждению, что хорошее образование и успех в жизни взаимосвязаны, считает социальный психолог из МГУ Алексей Рощин.
«В советское время „на коне“ оказывались люди, чье образование было востребовано командно-административной системой. Когда система рухнула, вчерашние отличники оказались не приспособлены к ситуации, где правила игры писались с нуля, а вот как раз бывшие „двоечники“ почувствовали себя как рыба в воде. Они стали получать не формальное, а практическое образование на ходу, и именно эти знания и навыки позволили им выбраться в элиту нового общества», — рассказал он «Эксперту».
В силу этого успешные люди доверяют своему окружению не вслепую, а потому, что умеют (в том числе на подсознательном уровне) «считывать» намерения и психологические характеристики своих визави. Присказка «я под тобой землю на сто метров вглубь вижу» — это примерно об этом.
Ничто человеческое им не чуждо
Всё сказанное касается не только российского общества, а, по-видимому, является общечеловеческим свойством — ведь практически к тем же выводам, что и социологи ВЦИОМ, ранее пришли их коллеги из Оксфордского университета Ноа Карл и Франческо Биллари.
В 2014 году они проанализировали данные Общего социального опроса США (General Social Survey). Заключение, сделанное ими, практически полностью совпадает с выводами российских социологов: чем человек умнее и успешнее, тем больше он склонен доверять окружающим. По данным Карла и Биллари, люди с более высоким уровнем образования на 34% чаще доверяют окружающим, чем менее образованные члены той же фокус-группы.
«Доверие тесно коррелируется с уровнем интеллекта, а способность доверять другому человеку порождает в свою очередь умение правильно выбирать себе деловых партнеров», — объясняют исследователи, почему более доверчивые люди как правило успешнее в бизнесе.
Помимо этого, ученые из Оксфорда выявили пусть не столь очевидную, но все-таки существующую позитивную связь между уровнем доверия и состоянием физического здоровья испытуемых: люди с высоким эмоциональным интеллектом жалуются на хвори на 7% реже, чем эгоистичные.
Издание Harvard Business Review опубликовало собственное исследование на ту же тему. Авторы HBR пришли к выводу, что способность доверять окружающим является необходимым качеством для выживания индивидуума уже с раннего детства. Воспитываемые с пеленок в атмосфере доверия и сотрудничества дети успешнее учатся в школе, лучше ладят со сверстниками — то есть вырабатывают навыки формирования социальных сетей, которые являются залогом успеха в любом возрасте.
Из этого делается вывод, что семейное богатство передается из поколения в поколение не только в виде денежных накоплений — эмпатичные родители передают детям набор «мягких навыков» (soft skills), которые генерируют социальный капитал. Американский экономист Пол Зак утверждает, что изобилие «гормона радости» окситоцина в организме человека повышает его шансы на успех по сравнению с людьми, которые испытывают его дефицит. Его коллега из Нью-Йоркского университета Пол Глимчер даже предложил термин «нейроэкономика», чтобы описать этот феномен наследования успеха.
Есть две страны с очень схожей спецификой социальной интеграции, резко отличающейся от западной — это Россия и Израиль. В обеих этих странах жизненный успех человека туже завязан на межличностные коммуникации и взаимное доверие, чем на государственные институты, говорит Иосиф Дискин.
«В России и Израиле деловые связи по большей части налаживаются между „своими“ — то есть людьми, которые знакомы между собой не только в рамках бизнес-проектов. Это бывшие одноклассники, армейские товарищи и т.д. Они в полной мере используют то, что называется социальным капиталом. Соответственно, люди, не встраивающиеся в социальные цепочки, там оказываются неудачниками, — указывает социолог. — Но если в России и Израиле успех связан с использованием потенциала партикулярной (межличностной) коммуникации, то на Западе ее место занимает доверие к обезличенным общественным институтам, к их стабильности, которую никто не ставит под сомнение, — добавляет он. — То есть механизмы в России и на Западе различные, но результат один и тот же: доверие генерирует успех независимо от того, какие ценности лежат в его основе».
От социологов ВЦИОМ тоже не ускользнула эта связь. Общественное доверие «способствует созданию стабильных связей, благодаря которым люди сотрудничают, обмениваются идеями и решают проблемы сообща», — говорится в исследовании.