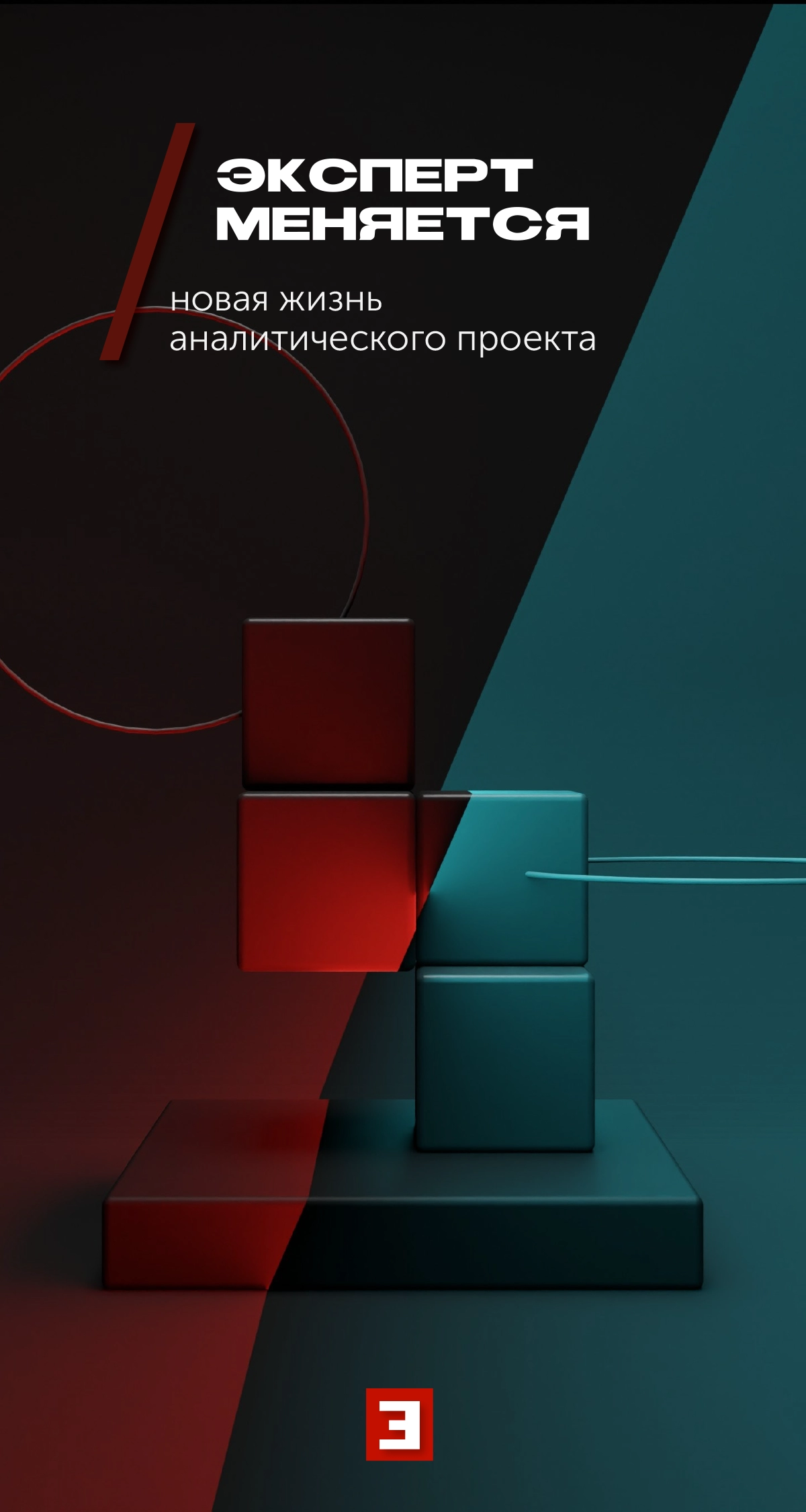- USD Бирж 1.08 -10.33
- EUR Бирж 12.7 -86.04
- CNY Бирж 28.62 --15.92
- АЛРОСА ао 78.5 -0.3
- СевСт-ао 1910.4 -18.4
- ГАЗПРОМ ао 159.2 -1.55
- ГМКНорНик 155.2 -1.12
- ЛУКОЙЛ 8076.5 -1.5
- НЛМК ао 241.74 -2.74
- Роснефть 582.2 +-2.45
- Сбербанк 307.86 -0.76
- Сургнфгз 34.815 -0.07
- Татнфт 3ао 721.4 -2.1
- USD ЦБ 91.69 92.05
- EUR ЦБ 98.56 98.64