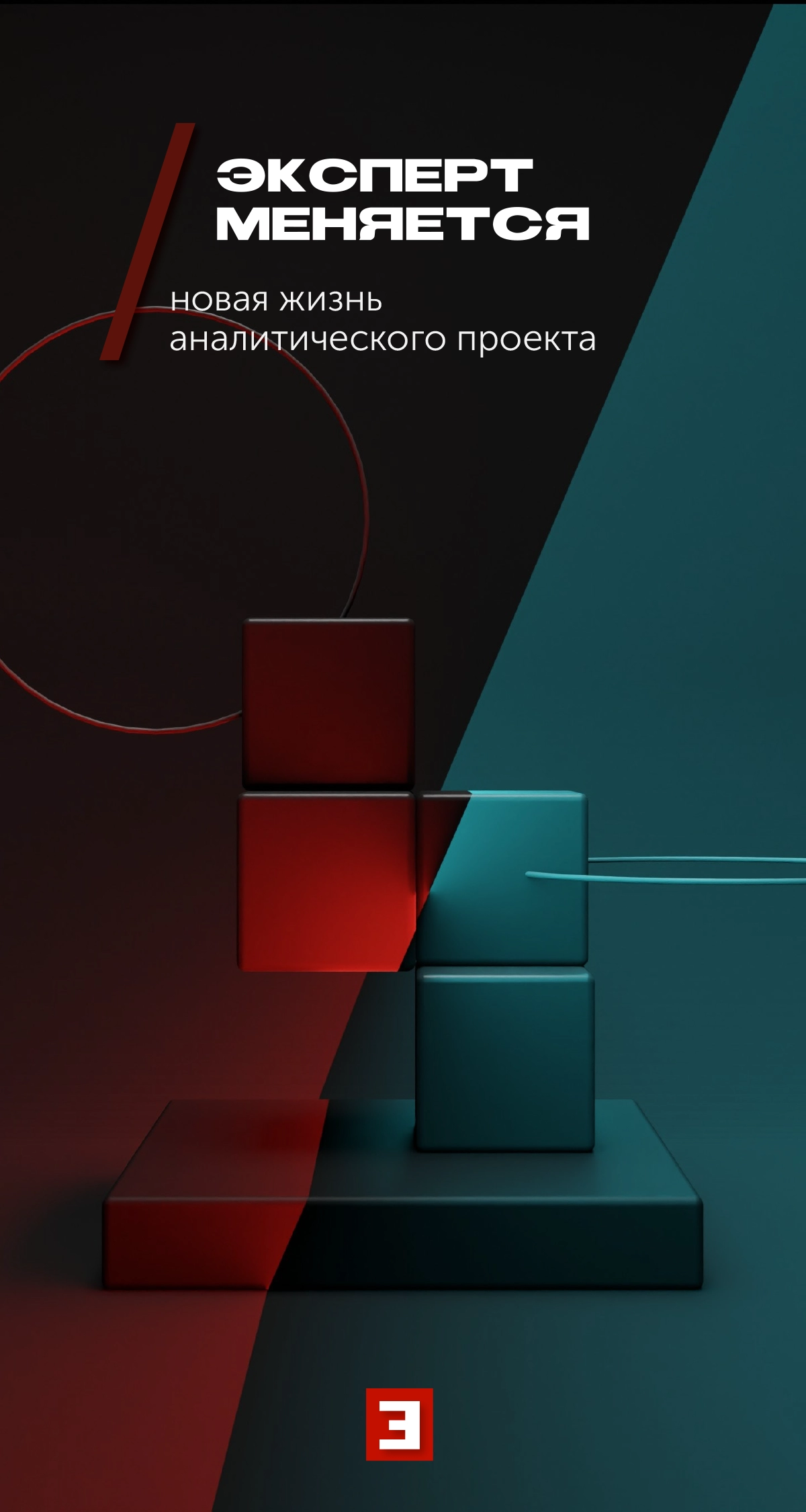- USD Бирж 1.07 -10.36
- EUR Бирж 12.68 -85.95
- CNY Бирж 28.55 --15.89
- АЛРОСА ао 75.85 +-0.01
- СевСт-ао 1870.8 +-6.2
- ГАЗПРОМ ао 163.32 -0.27
- ГМКНорНик 156.8 +-0.22
- ЛУКОЙЛ 7817.5 +-10
- НЛМК ао 228.56 +-0.74
- Роснефть 578.75 -1.15
- Сбербанк 308.32 +-0.08
- Сургнфгз 33.26 -0.18
- Татнфт 3ао 717.9 +-1.3
- USD ЦБ 92.01 92.13
- EUR ЦБ 98.72 98.71